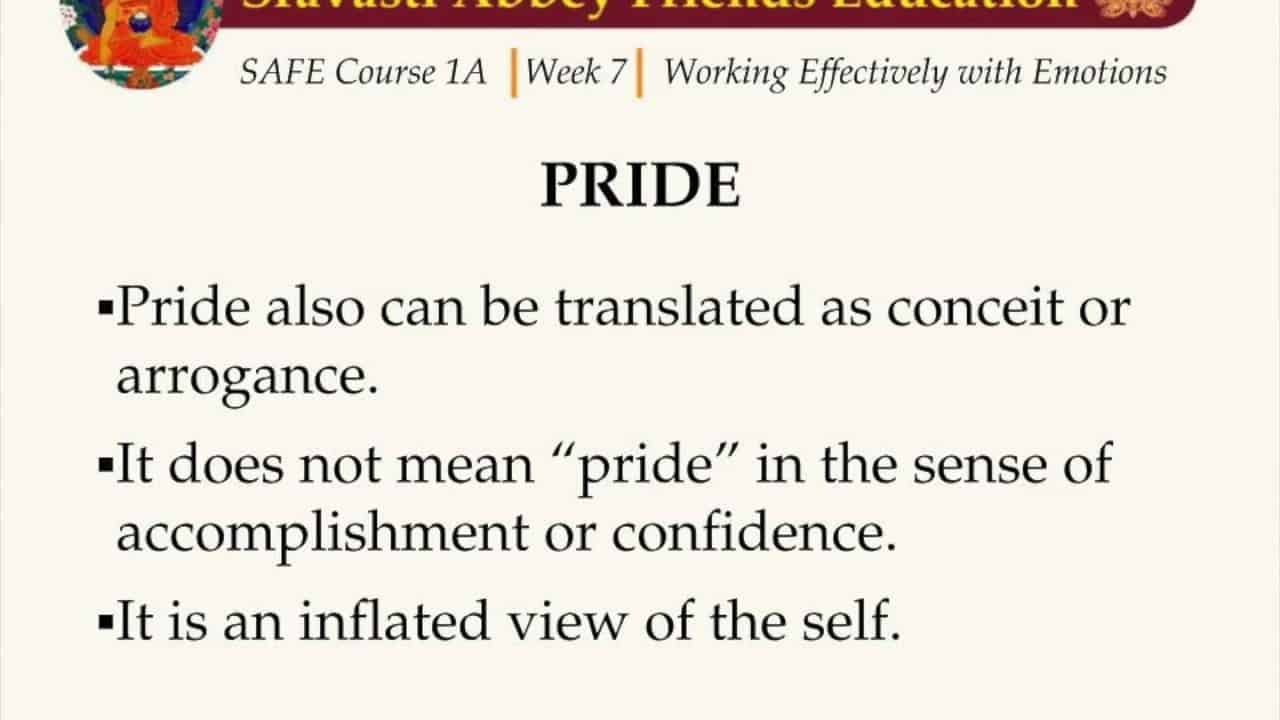Пижамная комната
Автор: Дж. Х.

Я вспоминаю день, когда для меня умерла религия: это был день рождения духовности. В то время мне было 12 лет, я стоял в пижамной комнате и размышлял о жизни.
Моя сестра назвала пижамную комнату дисциплинарной комнатой в реабилитационном центре. Он получил свое название от бумажной больничной одежды с синими ботинками, которые заставляли носить в пижамной комнате.
Итак, я стоял в пижамной комнате, и мне нечего было делать, кроме как размышлять о том, как сильно я ненавижу жизнь. Я не размышлял, потому что был особенно интроспективен. В «Пижамной комнате» делать было просто нечего. В конце концов, в «Пижамной комнате» не было никаких личных вещей. Индивидуальность была там роскошью, которую трудно было найти между белыми металлическими стенами, выложенными плиткой больничными полами и гимнастическим матом, предназначенным для использования в качестве кровати.
Однако в пижамной комнате было окно. Он был размером с витрину, довольно большой. Разумеется, он был усилен стальными рамами и защитной сеткой, проходящей через само стекло. Люди не могут освободиться от своих страданий, не так ли?
Смотреть в окно было все равно, что смотреть на пейзаж моей жизни. Дело было зимой, сразу после Рождества. За окном стояло маленькое деревце, хрупкое и безжизненное. Трава тоже была мертва, как будто выказывая свою любовь к мертвому дереву, присоединяясь к нему в безжизненности. Небо было хмурым, как будто солнце никогда больше не засияет.
Я провел много часов, глядя в это окно, недоумевая, как я попал в «Пижамную комнату»; интересно, куда я пойду оттуда; задаваясь вопросом, не удержит ли меня защитная сетка жизни от свободы.
Там, среди моих размышлений и гнев, это произошло. Я должен был это видеть; это было долго в создании. Но я этого не сделал. Я также не осознавал, что это произошло, до тех пор, пока это не произошло. Как бы то ни было, это произошло там. Бог умер там, а я сидел с угрызениями совести там, в пижамной комнате. Не Бог, великий-большой-старый-образ-отца-в-небе Бог, хотя он и был частью уравнения, а Бог кто-то или что-то вне меня, что могло бы исправить меня.
Сидя в пижамной комнате, размышляя о жизни, я, наконец, принял то, что все так долго твердили мне. Я был сломлен. Не просто ребенок, который то и дело вел себя «плохо». Я был полностью разбит. Я был бесполезен.
Наверное, я думал об этом задолго до «Пижамной комнаты», просто не принял. До этого дня я всегда думал, что кто-то спасет меня от самого себя. Я всегда надеялся, что в мою жизнь войдет какой-нибудь великий милосердный ангел и все сделает лучше. Тут я и перестал верить. Я перестал верить в ангелов и демонов, богов и богинь. Я перестал верить в какое-либо сверхъестественное существо, которое должно было привести меня к спасению.
Не поймите меня неправильно; дело не в том, что я перестал верить в существование таких вещей. У меня была довольно длинная история оцерковления и оккультизма, и всего остального между ними, что гарантировало, что я не откажусь от веры так легко. Я умолял всех существ, о которых читал за свои короткие 12 лет жизни: «Пожалуйста, пожалуйста, прекратите страдания, которые составляют мою жизнь».
Там, в «Пижамной комнате», я, наконец, смирился с тем, что если такое существо и существует, то ему все равно. Бог не был спасителем, какую бы форму он или она ни принимал. Теперь я улыбаюсь, вспоминая иронию своего поступка, мою хвалебную речь Богу, если хотите.
Когда я вышел из пижамной комнаты, я вернулся в свою комнату для уединения. Стоя там в ванной, сжимая одноразовую бритву, которую я убедил ординарца, который мне нужен для моих трех волос на подбородке, я вытащил лезвие из пластикового чехла. Положив его рядом с чернильной ручкой, которую положила на раковину, я снял рубашку и уставился на свою безволосую грудь. Не особо задумываясь о том, почему или даже о значении этого символа, я взял бритву и начал вырезать — из всего — Знак Давида у себя на груди. Порезы были не очень глубокими; в конце концов, это была одноразовая бритва. Однако они были достаточно глубокими, чтобы прижать к моей груди ярко-красную кровоточащую звезду. Отложив лезвие, я взял чернильную ручку. В то время я не знал, что есть разница между чернилами для татуировки и чернилами для одноразовых ручек. Я оторвал кончик ручки и начал мазать чернилами рану. Я хотел, чтобы эта звезда осталась у меня на груди, как напоминание миру о том, что да, я сломлен. Никогда больше я не забуду, что всякая надежда потеряна. В моем 12-летнем сознании этот поступок сказал все это.
Ну, я не достиг своей цели, и звезда продержалась всего неделю или около того. Но я верю, что звезда спасла мне жизнь. Если бы я не нашел в себе силы оставить этот знак неповиновения, я мог бы поддаться всепоглощающей печали и покончить со всем этим. Ведь мне тогда хотелось умереть, и я провожу много часов, пытаясь понять, как это сделать безболезненно. Моя метка, моя позиция против жизненных страданий каким-то образом поддерживали меня.
Что мне более интересно, сейчас, оглядываясь назад, так это то, что родилось во мне в тот день. Как и все роды, оно началось с крови и закончилось слезами. Думаю, можно сказать, что у меня были долгие роды, так как кровь текла, когда мне было 12, слезы, когда мне было 20. Когда мне было 20, я сидела в тюремной камере, окончательно убедившись в том, что я впервые начала делать. поверьте все эти годы назад. Теперь мало того, что все говорили мне, что я сломлен, там, в тюремной камере (в административном изоляторе — одиночном заключении — по дисциплинарным соображениям, не меньше), я доказал это, доказал их правоту. я законопроект сломанный. Исправить меня было некому, и не было никакой надежды.
Так почему же я начал эту дискуссию со слов о том, что в тот день, когда во мне умерла религия, родилась духовность? Религия — это процесс поиска помощи во внешнем мире. Религия ищет мир вокруг вас, чтобы исправить вас. Я отказался от этого в возрасте 12 лет в «Пижамной комнате». Я отказался от мысли, что мир когда-нибудь меня исправит. Для меня это была смерть религии.
В то время я не думал, что смогу исправиться, поэтому не могу сказать, что во мне полностью сформировалась духовность. Но процесс пошел. Семя было посажено. В тот день, когда я впервые обдумал Четыре Истины Арьи, там, в административной одиночной камере — пижамной комнате, которая была моим нынешним местом жительства, — в тот день я понял, что может быть исправлено. Я мог исправить себя. Именно тогда во мне родилась духовность.
Было бы справедливо сказать, что это звучит эгоистично. Было бы справедливо сказать, что, видя, что ты меня не знаешь и не знаешь, я все еще сломлен. В моем мире, в моем уме, больше неправильного, чем правильного. И я сделал это таким образом. Так что, не зная этих вещей, было бы справедливо ругаться.
Я, на самом деле, далек от исправления. У меня есть гора стыда, которая то и дело вырастает угнетающе высокой. И на случай, если я когда-нибудь забуду «сломанный», на случай, если я начну думать, что со мной все в порядке… Мне просто нужно оглядеться, посмотреть, «где я живу», и я вспомню, как я сюда попал. Я никогда не смогу вернуть это. Это никогда не исчезнет.
Поэтому, когда я говорю, что я единственный, кто может меня вылечить, это не какая-то грандиозная идея о том, насколько я подхожу для этой задачи. Бог знает, если бы это было собеседование, чтобы решить, кто больше всего подходит для этой работы, я был бы последним, кто нанял меня, чтобы исправить меня. К сожалению, нет никого, кто бы это сделал, как я понял, и нет никого, кто мог бы это сделать.
Это подводит меня к домен точка. Часто бывает так, что мы, американские буддисты, приходим к буддизму не как буддисты, а как отступники-христиане/мусульмане/евреи/и т.д. Мы подходим к буддизму, говоря: «О, верно; никаких отношений между отцом и сыном. Но на самом деле мы имеем в виду: «Мне нравится, Будда-Боже мой. Мы имеем в виду следующее: «Ну, я хотел, чтобы меня починил один из других парней, но они, похоже, не были готовы к этой работе, когда ее предложили, так что я собираюсь попробовать нового парня в этом квартале. . Может быть, он сможет это сделать». Как человек с горой проблем, я могу сказать вам, что этот новый парень, Будда, не может решить ваши проблемы лучше, чем другие.
Так что, если все это правда, если я действительно все еще сломлен и Будда меня не исправить, почему у меня такая вера? Почему я доверяю словам и учениям существа, которое, как я знаю, не может сделать то единственное, что я хочу, чтобы кто-нибудь в этом мире или каком-то другом сделал для меня? Почему я доверяю существу, которое не может меня исправить, не может сделать меня здоровым?
Ответ прост. Благословенный не сказал: «Иди сюда и позволь мне исправить тебя». Благословенный не сказал: «Доверься мне, и я исцелю тебя». Он даже не сказал: «Молись небу, и все будет хорошо». На самом деле Благословенный сказал: «Путь не в небе, Путь в вашем сердце». Он сказал: «Не принимай мои слова из уважения…» Благословенный сказал: «Татхагаты учат в мире». Он сказал, и я перефразирую здесь: «Эй, подними свою задницу и приведи себя в порядок, потому что никто другой не может сделать это за тебя».
Значит, я могу сломаться. У меня может быть много багажа. Я могу провести остаток своей жизни в этой тюрьме. У меня может быть такой большой шкаф, полный скелетов, что мне понадобится не одна жизнь, чтобы справиться с ними. Но я сделаю это. И я сделаю это с широкой буддийской улыбкой не потому, что я особенно праведный, не потому, что я такой чистый, не потому, что я особенно щедрый, не потому, что я исключительно сострадательный. А потому, что я хороший буддист. Я хороший буддист не потому, что я таков, а потому, что я стремлюсь быть всем этим, с тело, речь и разум.
Заключенные люди
Многие заключенные со всех концов США переписываются с преподобным Тубтеном Чодроном и монахами из аббатства Шравасти. Они предлагают прекрасное понимание того, как они применяют Дхарму и стремятся принести пользу себе и другим даже в самых трудных ситуациях.